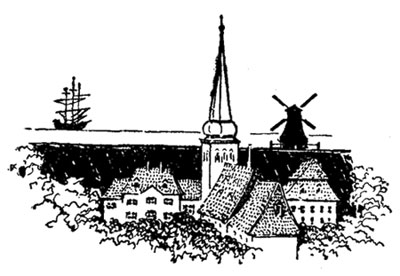Нидерланды: золотое двадцатилетие (1945-1970)
Немецкая оккупация была одним из наиболее драматичных событий в истории Нидерландов. Внезапно стал реальностью кошмар каждой маленькой страны: угодить в когти могущественному соседа. Десятого мая 1940 года все иллюзии о военном и политическом потенциале были разбиты вдребезги, стране пришлось узнать жестокую правду о своих крайне ограниченных военных и политических возможностях на европейском силовом поле. Старая робость перед континентом преобразовалась теперь в глубоко укоренившийся и труднопреодолимый страх перед Германией, более сильный и более устойчивый, чем у многих других европейских стран.
Студенты поколения моей матери (она родилась в 1901 году) знали стихотворения Гейне и Рильке наизусть, их дети владели немецким еще достаточно хорошо, но у поколения внуков и правнуков, если не говорить об исключениях, знание немецкого языка или хотя бы литературы уже едва ли имеется.
Эти сильные анти-немецкие чувства, проходящие через несколько поколений, объясняются тем, что события того времени подверг; ли серьезному испытанию представление нидерландцев о самих себе. Большинство европейских стран имеют немалый опыт войн в своей истории, поэтому вторжение и ответное сопротивление так или иначе занимают в ней свое осмысленное место, каким бы тяжелым испытанием это ни становилось. Для нидерландцев, которые в течение веков жили в относительно безопасном северо-западном углу континента, все было сложнее. Бессилие и унижение намного труднее переносить, чем просто поражение в борьбе, что, несомненно, влияло на тяжесть полученной травмы.
Но было еще кое-что, что сыграло роль. Массовое уничтожение евреев покрыло позором не только немцев, оно серьезно повредило образу, который нидерландцы составили о самих себе. Из более чем 140 тысяч евреев, которые жили в Нидерландах, не менее 105 тысяч, как выяснилось после войны, разделили судьбу Леони Норден. Несмотря на всю толерантность и свободолюбие жителей страны, нидерландские евреи по сравнению с евреями других оккупированных стран имели очевидно меньше шансов пережить холокост: в целом смогли спастись только около 25 процентов. В Бельгии — почти в 2,5 раза больше — 60 процентов, во Франции выжили 75 процентов, в Норвегии — 60, в Дании — 98 процентов. В среднем по Европе выжило лишь 20 процентов евреев, в Польше — всего лишь 2 процента, но что касается западноевропейских стран, то Нидерланды обладают самым низким процентом выживших.
Как это объяснить? Болезненный вопрос, который до сих пор мучает нидерландцев. Важным фактором, вероятно, было то, что Нидерланды находились под немецким «гражданским» управлением. Это означало, что вермахт играл сравнительно малую роль в осуществлении властных полномочий и что эсэсовцы и гестапо, отличавшиеся гораздо большим фанатизмом, здесь, в отличие от большинства западноевропейских стран, могли действовать практически без помех. К тому же во Франции, например, с ее малообжитыми и недоступными районами, прежде всего на юге, было гораздо больше возможностей прятать людей, чем в густонаселенных и обозримых Нидерландах. Кроме того, Нидерланды, в отличие от Норвегии, Дании и Франции, не имели общей границы с территориями, свободными от оккупации.
Антисемитизм, конечно, присутствовал и здесь, но распространен был не больше, а скорее меньше, чем в других странах. Если взять Францию, то антисемитизм в этой стране на протяжении всего ХХ века был гораздо жестче и нередко сопровождался насилием. Первая партийная программа НСД базировалась в основном на идейных установках родственной НСДАП (NSDAP)*, за исключением антисемитских пассажей, которые, по мнению лидера НСД Антона Мюссерта, могли бы произвести на нидерландского избирателя пугающее впечатление. Когда в феврале 1941 года в Амстердаме прошли первые большие облавы на евреев, в городе и его округе в кратчайшее время была организована всеобщая забастовка солидарности, которая явилась одним из очень немногих общественных выступлений в знак протеста против преследования евреев в оккупированной Европе. Она была быстро и кроваво подавлена силами немецкого полицейского батальона и двух полков дивизии СС «Мертвая голова». Стало ясно, что «медовый месяц» закончился.
Впрочем, многие евреи стали жертвами пассивного антисемитизма, безразличия и ксенофобии. Характерной была позиция нидерландского правительства в изгнании, которое находилось в Лондоне, и королевы Вильгельмины в особенности. В своих радиообращениях она лишь три раза посвятила несколько слов преследованию евреев, хотя знала, что каждый десятый житель столицы ее страны был депортирован. Сопротивление стало по-настоящему активным только после 1943 года, когда около 300 тысяч нидерландцев нееврейского происхождения скрывались, чтобы избежать отправки на работу в Германию. К тому моменту большинство евреев уже депортировали.
Наконец, важную роль сыграли также определенные аспекты нидерландского менталитета: нидерландцы — включая нидерландских евреев, — привыкшие на протяжении веков к относительно разумному гражданскому управлению, должны были абсолютно заново «изобретать» для себя нечто подобное движению Сопротивления. Если во Франции и в Бельгии требуемые цифры депортации благодаря скорее нелояльной местной бюрократии вскоре исправляли в сторону понижения (прежде всего в той части Франции, которую занимали итальянцы), то в Нидерландах процесс депортации проходил безупречно или, как выразился Эйхман, «как по маслу». В амстердамском Музее Сопротивления в качестве символа подобной готовности к сотрудничеству висит карта города, составленная по просьбе немцев, с точным распределением еврейского населения в различных частях города. Этот документ — для подготовки будущих облав — был сделан не нацистами и не антисемитами, а просто резвыми чиновниками амстердамского адресного стола. Порученное задание они добросовестно выполнили всего за несколько дней.
Чем больше военных неудач приходилось терпеть немцам с декабря 1941 года, тем сильнее становился нажим на население оккупированных территорий и тем больше нарастало сопротивление. Ситуация с продовольствием и в Нидерландах становилась критической; все, что имело хоть какую-нибудь экономическую ценность, — от велосипедов и церковных колоколов до полного комплекта заводского оборудования, — в больших объемах увозили в Германию; важнейшие польдеры были затоплены; волна арестов, казней и других репрессий нарастала.
Количество людей, ушедших в подполье и полностью посвятивших себя Сопротивлению, в начале 1943 года не превышало нескольких тысяч, а в сентябре 1944 года их было примерно 25 тысяч. Около 6 тысяч заплатили за это своими жизнями. В то же время около 20 тысяч нидерландцев добровольно воевали вместе с немцами на Восточном фронте, преимущественно в войсках СС. Однако по-настоящему утвердиться в Нидерландах нацистам не удалось. На пике своей популярности, в начале оккупации, НСД насчитывало примерно 80 тысяч членов, то есть чуть больше одного процента тогдашнего населения страны. Подавляющее большинство нидерландцев каким-либо образом, пусть лишь косвенно, поддерживало подполье: пожертвованиями, оказывая маленькие услуги и не в последнюю очередь своим молчанием.
Весьма примечательно, что в Сопротивлении особенно активно проявили себя две группы довоенных политических экстремистов: ортодоксальные кальвинисты и коммунисты, крайне правые и крайне левые, часто по-братски сотрудничали друг с другом. Например, коммунисты организовали февральскую забастовку 1941 года, а подпольная печать была в значительной мере в руках людей из строго кальвинистской среды. Одним из объяснений, вероятно, является то, что они еще до войны имели великолепную организацию. Важным моментом для коммунистов было также то, что в социалистическом и коммунистическом движении активно участвовало относительно много евреев, поэтому для левых борцов Сопротивления многочисленные преследуемые евреи часто были товарищами и соратниками по борьбе, семьи которых они хорошо знали. Для консервативных кальвинистов наряду с их сильным патриотизмом, их любовью к «стране праотцев» важным мотивом была религиозная форма идентификации с жертвами: какими бы «чуждыми» ни были для них евреи, они считали своим религиозным долгом в эти тяжелые времена встать на сторону библейского народа.
Несколько лет назад вышло объемистое историческое исследование, представляющее собой довольно произвольный срез нидерландского Сопротивления: в нем рассказаны истории 372 расстрелянных борцов, чьи останки были перезахоронены на почетном кладбище в дюнах под Харлемом. Рассказы о жертвах расположены в определенном порядке. Например: история 49, ряд К, участок 34, десять молодых людей, частично из студенческого сопротивления, арестованы в результате предательства, расстреляны 6 января 1945 года на проселочной дороге недалеко от Алкмаара. Проходивших мимо людей — в ту зиму в Рандстаде свирепствовал голод, и многие горожане совершали «голодные походы» в сельскую местность — заставили присутствовать на казни. И пришлось наблюдать, как промахнулись солдаты из расстрельной команды, они слышали стоны двух жертв, моливших о том, чтобы их из милосердия дострелили. Они были свидетелями того, как после казни местный бургомистр торговался с гробовщиками об оплате похорон. Все эти детали можно найти в публикации.
Это собрание больших и малых драм позволяет понять взаимные связи между группами, отчасти состоявшими из родственников и друзей, которые вместе сопротивлялись оккупантам. Но иногда бросаются в глаза социальные различия участников Сопротивления. Когда расстрелянных у Алкмаара позже перезахоранивали, останки свидетельствовали о разном социальном положении казненных: у одних были золотые пломбы и коронки, другие обходились «неухоженными и больными кариесом зубами», а у одного почти полностью отсутствовали зубы верхней челюсти.
Впрочем, зрители и прохожие тоже играют важную роль в этом «Лексиконе Сопротивления». Повсюду в нем сталкиваешься с предательством, а еще чаще с равнодушием, пассивностью и прямо;таки преступной исполнительностью. Нидерландские железнодорожники, например, которых их коллега Йаап Хамелинк (позже также расстрелянный) еще в июле 1942 года призывал саботировать перевозку евреев в «пересыльный лагерь» Вестерборк, еще два последующих года бесперебойно обслуживали процесс депортации. Или жители фризской деревни Эхтенербрюх, сдавшие полиции морского офицера и секретного агента Лодо ван Хамела и его сотрудников, после того как гидроплан, который должен был забрать группу и доставить ее в Лондон, не смог совершить посадку на близлежащем озере Тёкермеер. По берегу озера ныне проходит дорога, названная в честь Лодо ван Хамела, но не думаю, что местные обитатели рассказывают о связанной с этим истории.
Однако прежде всего книга сообщает о мужестве. О мужестве юношей и девушек — какими же юными были многие из них: 19 лет, 21 год, 23 года! О мужестве обычных граждан: ведь большинство из них оказались похороненными на почетном кладбище только потому, что их тела были найдены в соседних дюнах. Среди них были и старые, и молодые; банкир, разнорабочий, председатель суда, аптекарь, скульптор, батрак; коммунист, строгий кальвинист. О личном мужестве таких людей, как Вилем Арондёс, активный член Сопротивления в художественных кругах, который открыто заявлял о своем гомосексуализме, чтобы все видели, что гомосексуалисты не трусы, не уподобились женщинам и не декаденты. О мужестве его товарищей, с которыми он близко сошелся в последние недели перед казнью, когда в общей камере они вели бесконечные разговоры, дискуссии, читали Библию, шутили и, как выразился один из них, пережили время невиданной радости и счастья. О мужестве 13 приговоренных к смертной казни сотрудников подпольной газеты «Фрай Недерланд» («Свободные Нидерланды»), которые, по словам одного из заключенных, каждый день выбегали на так называемый шпортплатц, «как будто у них нет никаких забот и уже завтра они выйдут на свободу».
Все это тоже было в оккупированных Нидерландах.
Осенью 1945 года — страна была обескровлена, но все лето бурно праздновала освобождение — уже упоминавшийся Ян де Хартог встречал свою мать, прибывавшую на транспортном судне, которое доставило бывших переселенцев из Индонезии обратно в Европу. Почти все нидерландцы, которые там жили (примерно 100 тысяч человек), провели более трех лет в лагерях, куда их интернировали японцы. А сразу после капитуляции Японии индонезийские националисты провозгласили Республику Индонезию. Началась война за независимость.
Де Хартогу, как, вероятно, и любому нидерландцу, был хорошо знаком данный корабль. Перед началом Второй мировой войны он не раз наблюдал его отплытие и возвращение. Украшенный флагами и серпантином, с радостными пассажирами у поручней и тесной толпой слуг-яванцев на корме верхней палубы, он был гордым символом нидерландской колониальной империи, в которой никто не находил странным, что «страна с населением не более 10 миллионов, ведущая земноводную жизнь в самом заболоченном углу Европы, господствовала над тропическим архипелагом величиной с континент и населением, на 60 миллионов превышавшим ее собственное население».
Но, когда в тот осенний вечер 1945 года корабль швартовался к пристани, де Хартог осознал, что нидерландской колониальной империи пришел конец. «То, что раньше было королевой торгового флота, выглядело теперь как каботажное судно, выполняющее случайные рейсы. Краска на нем потрескалась, спасательные шлюпки в грязи, флаг порван. На прогулочной палубе, где я так часто видел расположившихся белых властителей «Изумрудного пояса»**, теперь стояла толпа женщин и детей со впалыми глазами, выживших в японских концентрационных лагерях». Де Хартог не без колебаний взошел на борт, «избегая смотреть на истощенные тела, в печальные лица и в напуганные глаза женщин, наблюдать лихорадочную и неуверенную шаловливость худых детей, нервно игравших в прятки на палубе, где когда-то прогуливались их отцы, блистая помпезным благополучием».
Было ли то, что произошло в период с 1940 по 1945 год, случайностью? Конечно, ужасной случайностью, но, по сути дела, было ли это всего лишь временным отклонением от нормального хода вещей? Или это — переломный момент в ходе нидерландской истории?
Этот вопрос после 1945 года разделял умы; здесь сталкивался друг с другом очень разный жизненный опыт людей. С одной стороны, были сотни тысяч, которые лично пострадали в тот период, потеряли родных, имущество, а часто и само желание жить; для них уже ничто не будет таким, каким было раньше. Амстердам потерял практически все свое еврейское население, чья роль во многих сферах жизни города — прежде всего в культуре и политике — оказалась трудновосполнимой. И для столицы мир изменился навсегда. С другой стороны, многие нидерландцы ощутили в том хаосе вкус новой свободы: свободы от отжившей морали, сексуальной свободы и прежде всего — что было особенно важно для борцов Сопротивления — свободы от ограничений системы «колонн».
На левом фланге Йооп ден Эйл, в то время редактор газеты «Фрай Недерланд», вместе со многими другими напрягал все силы для политического «прорыва»: старую Социал-демократическую рабочую партию необходимо было реформировать в новую партию, с более широким спектром единомышленников (включая верующих всех конфессий), — в Партию труда (ПТ). Консервативно-либеральные политики предпринимали такого же рода усилия по формированию Народной партии свободы и демократии (НПСД). Другие — а именно Сикко Мансхолт, Макс Конштамм, Эрнст ван дер Бёхел, Йохан Виллем Бейен, — ориентируясь на свой опыт военных лет, стремились перешагнуть национальные границы и устроить что-то вроде общеевропейского «прорыва». Не случайно, что вскоре после войны именно в Нидерландах появился целый ряд пионеров европейского объединения.
Макс Конштамм, уже в 1940 году активно участвовавший в студенческом Сопротивлении, а затем несколько лет находившийся в лагере заложников, выразил свои тогдашние чувства следующим образом: «Мы на собственной шкуре испытали… что означает отсутствие международной безопасности и стабильности и насколько могут быть важны такие понятия, как свобода, цивилизация и правопорядок». Летом 1947 года он в первый раз снова путешествовал по Германии, страна полностью лежала в руинах, и в нем все больше крепло осознание того, что это не только немецкая, но и нидерландская проблема. «Невозможно вновь правильно отстроить нашу собственную страну, пока соседняя Германия лежит в развалинах, это было ясно нам всем. Но как суметь избежать повторения истории, чтобы в Рурской области больше не изготовляли бомбы, которые сбросят на Роттердам?»
Для Нидерландов «план Шумана», начало европейского сотрудничества в области угольной и сталелитейной промышленности — первый шаг по пути к Европейскому экономическому сообществу — стали революционным решением дилеммы, сформулированной Конштаммом: проблемы западноевропейской угольной и сталелитейной промышленности могут и должны решаться сообща. Это было логичным шагом, но для Нидерландов такое решение означало также фундаментальное изменение курса. Ведь их центры власти, Амстердам и Гаага, всегда и уж точно с 1830 года ориентировались на моря и колонии. Впервые со времен Восстания Нидерланды по собственной воле и вполне определенно вновь связали себя с европейским континентом.
Существовали и другие причины, по которым Нидерланды должны были сделать именно такой выбор. Угроза потери индонезийской колонии воспринималась всеми как экономическая катастрофа (в 1938-м, последнем «нормальном» году, примерно седьмая часть экономики Нидерландов была завязана на Индонезии), которую необходимо было предотвратить любой ценой. Трижды (с 1947 по 1949 год) делались попытки провести так называемые «полицейские акции» — а в действительности крупные военные операции, — чтобы изменить положение. Первая акция не случайно называлась «Продукт». Обессиленная страна смогла послать тогда на другой край света более 100 тысяч солдат. С нидерландской стороны погибло 5 тысяч, а с индонезийской — 150 тысяч человек, и все жертвы были напрасны: в 1949 году в королевском дворце на площади Дам был предоставлен суверенитет независимой Республике Индонезии. От нидерландской колониальной империи после этого оставались еще только западная половина Новой Гвинеи, переданная в 1962 году сначала ООН, а через год от нее Индонезии; Суринам, ставший в 1975 году независимым, и Нидерландские Антильские острова, которые с 1954 года внутри Королевства Нидерландов пользуются широкой автономией.
Все это вызывало, как обычно бывает при вынужденном решении, весьма противоречивые чувства. С одной стороны, нидерландцы, и в частности их интеллектуальная и политическая элита, обладали достаточной трезвостью и реализмом, чтобы понимать, что их будущее отныне связано только с Европой. А с другой — океан продолжал манить, хотя его притягательная сила исходила больше не от индонезийского «Изумрудного пояса», а от Уолл-стрита, Голливуда и Капитолийского холма. Экономика Нидерландов настолько переплелась с экономикой Германии, что, по утверждению бывшего президента Центрального банка Нидерландов Виллема Дёйсенберга, «экономический суверенитет Нидерландов — это всего лишь пятнадцать минут, которые мне требуются, чтобы передать изменения немецкого курса процентной ставки нидерландским банкам». И в то же время иногда казалось, что на «духовной» карте мира для нидерландцев проложены железные дороги и автобаны, ведущие в Нью-Йорк и Вашингтон, а вот на Востоке, за германской границей, есть лишь цепочки дюн, песчаный берег и за ним — бесконечное море.
Послевоенные годы были в Нидерландах временем противоположных ощущений, старых и новых противоречий и во внутриполитическом плане. Наряду с осознанием необходимости изменений, реформ, охватившем здесь широкие массы, как и в других странах Европы, существовало сильное желание как можно скорее вернуться к привычному ходу вещей. С этой позиции события войны, сколько бы горя они ни принесли, многие хотели видеть как особый случай, из которого не надо делать далеко идущих выводов. «Похоронить прошлое, смотреть вперед» — было девизом великого молчания, которым в бесчисленных семьях, даже если они испытали большие несчастья, закрыли память о годах оккупации.
Несмотря на все призывы к реформам и вопреки полностью изменившейся международной обстановке, подобная установка доминировала в нидерландской политике и обществе в 50;е годы и продолжала сохраняться до конца 60-х. Возникшие в подполье газеты — «Трау», «Хет Пароол», «Фрай Недерланд», «Ваархейд» — и некоторые организации, выросшие из Сопротивления, продолжали играть определенную роль, но важнейшие позиции после 1945 года очень скоро вновь заняли довоенные институты и группы. Политический «прорыв», которому так много сил отдали ден Эйл и другие молодые политики, застопорился. «Холодная война» и страх перед вторжением с Востока привели к сворачиванию свежих контактов, которые наладились во время войны между политическими и мировоззренческими лагерями, и в течение самого короткого времени Нидерланды были снова разделены на нидерландско-реформированный, католический, социалистический, коммунистический, ортодоксально-кальвинистский, гуманистический и либертарианский «жизненные миры».
Нидерланды учителя Шмала и его христианской школы Королевы Вильгельмины, обязательных псалмов и собственных «христианских» рассказов по истории; Нидерланды моего дяди Петруса с его собственной «красной» пекарней, его собственной «красной» газетой и его собственным «красным» радиовещанием; Нидерланды наших «нейтральных» соседей, которые посылали своих детей в «нейтральную» школу; Нидерланды «католической» семьи, которая жила за нами и которая «католически» пахла и чьи девочки, по нашему мнению, обладали «католической» кротостью; Нидерланды «собственных» бакалейщиков и научных работников, «собственных» принципов, партий, баскетбольных клубов и объединений козоводов — эти Нидерланды вновь расцвели, как будто ничего не произошло.
Элиты этих «колонн» снова доминировали в политике и общественной жизни. Страна продолжала отличаться от остальной тогдашней Европы своей неповоротливой культурой ведения переговоров и достижения компромиссов. Прежний министр экономики много лет спустя однажды поделился со мной конфиденциальной информацией о том, что большинство решений в сфере экономической политики тех лет принимались в ходе бесед в узком кругу, в которых участвовали важнейшие представители индустрии и банков, работодателей, профсоюзов, правительства и политических партий. Встречи проходили еженедельно в гостиной в доме упомянутого министра на респектабельной улице Яна Лёйкена в районе Амстердам-Зёйд. «В принципе мы всегда соглашались друг с другом. Если директора Центрального планового бюро и Нидерландского банка считали, что нам следует двигаться в определенном направлении, то так и случалось. Затем лидеры работодателей и профсоюзов убеждали в этом своих сторонников».
В интересах восстановления экономики уровень зарплат — по сравнению со многими другими западноевропейскими странами — систематически удерживался на более низком уровне. Благодаря тому что повышение оплаты труда происходило медленнее, чем рост производительности труда, прибыль в различных отраслях промышленности была высокой, что высвобождало значительные средства для модернизации нидерландской промышленности. И в последующие десятилетия сдерживание заработной платы оставалось признанным средством управления экономикой.
Таким способом были заложены основы социальной, физической и научно-технологической инфраструктуры Нидерландов на вторую половину ХХ века. Теперь было решительно покончено с вековым доминированием сельского хозяйства и торговли, и это был не только вопрос инвестиций, происходило также формирование нового менталитета.
Индустриальная политика 50-х годов базировалась, как и повсюду, на определенных ожиданиях и прогнозах, но вместе с тем она опиралась на пропаганду: Нидерланды должны были быстрыми темпами стать «индустриально зрелыми» и коренным образом модернизироваться. На стенах в нашей школе Королевы Вильгельмины наряду с портретами Вильгельма Оранского и картиной, изображавшей зимовку на Новой Земле, висели также фотографии гидротехнических сооружений Дельтаверк, аэропорта Схипхол, фабрики искусственного шелка «Энкалон» в Арнхеме. Предприятия «Филипс», авиакомпания КЛМ, «Хоохофенс», авиазавод «Фоккер», судостроительные предприятия — все это в 50-е годы являлось гордостью нидерландцев и просто составляло нидерландскую идентичность.
Правда, нидерландская экономическая политика послевоенного времени — в некоторой степени это относится и к построению социального государства — не имела ничего общего с национальными амбициями, которые были характерны, например, для начальной стадии формирования британского государства всеобщего благоденствия. «То, что мы называли планированием, — писал позже один социолог, — было в первую очередь бухгалтерской операцией. Планирование проводилось для контроля за ходом дела и урегулирования проблем. Редко это было творческой реализацией принятого с энтузиазмом проекта, отличающегося смелостью и фантазией». Другими словами, это всегда оставалось продуктом улицы Яна Лёйкена.
Часто лидеры фракций во Второй палате одновременно были главными редакторами газет соответствующих «колонн». Достаточно было, к примеру, одного предложения из редакционной статьи ортодоксально-кальвинистской газеты «Трау» — и как друзья, так и враги сразу же точно знали, как данная «колонна» относится к определенному вопросу. Если в XVII и XVIII веках страна представляла собой в основном конгломерат малых и более крупных городских сообществ, то в ХХ столетии нидерландское общество определялось созданными в первую очередь на религиозной основе малыми и большими сообществами «колонн». Можно было ожидать, что столь закрытая система под влиянием глобализации и европеизации 50;х годов довольно быстро вынуждена будет открыться, но ничего подобного не произошло. Напротив, многие новые институты послевоенного времени были созданы главным образом «колоннами», денежные потоки формирующегося социального государства распределялись по большей части тоже через «колонны», так что их влияние скорее возрастало, чем падало. Значительный подъем в сфере высшего образования не в последнюю очередь был достигнут благодаря внушительному расширению сети специальных высших учебных заведений и университетов, принадлежавших той или иной «колонне». Подобный крупномасштабный рост происходил и в системах «околоненного» здравоохранения, радиовещания, жилищного кооперативного строительства, в «околоненных» социальных учреждениях и т. д.
В последний раз система «колонн» послужила в мировоззренчески раздробленной стране в качестве исключительно эффективного механизма умиротворения, хотя при этом, несмотря на весь опыт военных лет, настоящего национального сообщества не возникло. Извне нидерландцы казались намного толерантнее, чем были на самом деле. Они просто очень хорошо умели не обращать друг на друга внимания, если так можно было сохранить желанный внутренний мир.
Часто достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять геополитические возможности той или иной страны. Это, конечно, относится и к Нидерландам, хотя жителям страны часто с трудом удается примириться с отрезвляющими фактами.
Благодаря системе «колонн», воспитывавшей культуру достижения компромиссов и примирения, нидерландское общество в течение десятилетий довоенного времени отличалось стабильностью, что делало обновленное «околоннивание» таким привлекательным в трудный период послевоенного восстановления. Но вместе с тем для этой системы характерна также заметная неповоротливость и — вследствие закрытости друг от друга раздробленных групп — выраженная склонность к неприятию каких-либо перемен. Поэтому Нидерланды были и в известной степени остаются консервативной страной.
Но вместе с тем мы здесь все же ведем речь о современной нации, активно занимающейся торговлей и промышленным производством, которая из-за своей не слишком большой численности сильно зависит от заграницы. Подобная страна не может позволить себе изоляционизм и консерватизм на долгий период времени. И Нидерланды меняются вместе с остальным миром, но эти изменения часто проходят не последовательно, а скорее рывками, причем обычно весьма умеренная страна не боится при этом крайностей. В данном отношении нидерландские элиты по-прежнему являются достойными наследниками амстердамских регентов времен Французской революции и последователями короля Вильгельма II в период волнений 1848 года: в течение долгого времени им удается противостоять изменениям, но они тонко чувствуют, когда реформы становятся неизбежными и оказываются тогда весьма податливыми.
Именно так происходило в славные 60-е. Существует документальный фильм режиссера Берта Хаанстры «Простой человек» (1963), повествующий об обычной жизни Нидерландов того времени. Если не обращать внимания на проезжающие автомобили и модные прически некоторых девушек, многие сцены могли быть сняты и в 30-е годы: господа в шляпах и с портфелями, рабочие в комбинезонах, дамы в скромных шляпках и черных платьях, озабоченные школьники в твидовых пиджаках — такие персонажи преобладали на улице. Самыми смешными в этом фильме были сцены на пляже, где отдыхающие причудливым образом извиваются, стараясь «прилично» переодеться, а их близкие прикрывают их, высоко держа полотенца и целомудренно отводя глаза. Не прошло и пяти лет, как многие молодые люди стали предпочитать лежать на пляже совсем голыми, мини-юбки заполонили город, студенты, активисты движения «Прово» и бывшие священники перевернули в «колоннах» все вверх дном, коричнево-черно-серое однообразие уступило место оранжевому и яблочно-зеленому.
Схожее потрясение пережили Нидерланды в 90-е годы. Страна, в которой общественный и публично-правовой сектор издавна был особенно сильным, несмотря на отпугивающий пример политики Тэтчер в Великобритании, опережала всех в стремлении ограничить полномочия государства. В то время как в других европейских государствах проявляли необходимую осторожность и предусмотрительность, нидерландское руководство внезапно отпустило все тормоза: все, что могло быть приватизировано или переведено в разряд самостоятельных предприятий, от железных дорог до школьных столовых, было приватизировано или каким-то другим способом предоставлено рынку. В 60-е годы Нидерланды поспешнее, чем где бы то ни было, сняли морально-нравственные ограничения; 30 лет спустя с тем же радикализмом распрощались с до тех пор принятым в экономической и административной политике. Эти толчкообразные изменения имели одинаковую природу: они были симптомами медленного разложения системы «колонн», служившей фундаментом нидерландского общества. Этот процесс разложения подспудно начался в 50-е годы, в 60-е обрел драматичные формы, устойчиво развивался в 70-е и 80-е годы, почти незаметно продолжался под леволиберальными приметами в 90-е, в период временной фазы умиротворения, и взрывно ускорился в популистском бунте рассерженных избирателей в первом десятилетии XXI века.
«Дух времени манит нас к главному алтарю Маммоны», — пели мы в нашем христианском объединении мальчиков в 50-е годы, и мы даже не подозревали, насколько же это было верно! Ведь Маммона был в конечном счете богом денег, и фактически именно быстро растущее благосостояние пробило первую брешь в бастионах нидерландского партикуляризма. Вся Западная Европа в 50-е годы подпала под чары «экономического чуда», и Нидерланды отнюдь не были исключением. Впоследствии, по аналогии с XVII веком, заговорили о «золотом двадцатипятилетии». В течение 22 лет, с 1951 по 1973 год, экономика неуклонно показывала рост в среднем 5 процентов в год. Национальный доход на душу населения за это время удвоился; количество автомобилей увеличилось в 20 раз.
В конце 50-х годов доходы, рост которых в течение десятилетия сознательно сдерживался, внезапно начали стремительно расти. Для многих нидерландских семей это означало довольно резкий скачок на ранее немыслимый уровень благополучия и потребления. В период между 1948 и 1968 годами доходы нидерландцев, учитывая инфляцию, выросли в среднем почти на 75 процентов. Средняя рабочая неделя сократилась с 48 до 40 часов, отпуск вырос с 18 до 28 дней и более.
Власть «колонн», которую признавали в трудные времена, стала убывать, а более высокая мобильность людей и увеличение свободного времени лишали влияния и свойственную «колоннам» систему социального контроля. В 1960 году воскресную мессу посещало почти 90 процентов католиков, в 1973 году этот показатель снизился до 53 процентов, В 1960 году были рукоположены 316 священников, в 1970;м их было уже сорок восемь. Среди протестантов, хотя и с некоторой задержкой, происходили такие же процессы. Даже среди верных своим принципам ортодоксальных кальвинистов количество посещений церкви снизилось за этот период на треть.
На ночном заседании Второй палаты 14 октября 1966 года произошло падение кабинета премьера-католика Йо Калса в результате усилий фракции Католической народной партии, возглавляемой Норбертом Шмелцером. Эта «ночь Шмелцера» была историческим моментом: впервые стало ясно, что мощная католическая «колонна» больше не так крепка, как верили. Оказалось, что и в Партии труда произошел раскол между социал-демократами старой школы и группой в основном молодых политиков, которые уже вскоре под названием «Новые левые» штурмовали бастионы признанных партий. Результаты выборов показали, как неожиданно быстро ослабла традиционная связь религии и политики — основа системы «колонн». В 1963 году на выборах во Вторую палату Католическая народная партия еще получила 31,8 процента голосов, что было в пределах обычной поддержки избирателей. В 1967 году этот показатель снизился до 26,5 процента, а в 1972-м — до 17,7 процента. Очевидно, что католики, ранее голосовавшие за нее, искали другие политические ориентиры.
В следующие десятилетия ускорилась секуляризация. В 1958 году менее четверти нидерландцев, по собственному признанию, не принадлежали ни к какой конфессии. В 2020 году этот показатель предположительно будет равняться трем четвертям. Только 1,2 процента населения участвуют в воскресной католической мессе — число нидерландцев, молящихся в мечетях, выше. Количество прихожан крупных протестантских церквей, то есть кальвинистской Реформатской церкви (Hervormde Kerk), ортодоксально;кальвинистских Реформатских церквей (Gereformeerde Kerken) и Лютеранской церкви Нидерландов, объединившихся в 2004 году в Протестантскую церковь Нидерландов, с 1958 года снизилось на две трети, с 31 до 11 процентов населения.
Наряду с деконфессионализацией — как и в других частях Западной Европы — здесь наблюдается и в нерелигиозных областях процесс постепенного освобождения от старых связей; в политике — прежде всего среди левых. После 50-х годов перестало быть само собой разумеющимся, что рабочие, если они не связаны конфессионально, преимущественно голосуют за социал-демократов. Район Амстердам-Норд, где в 70-е годы повсюду висели плакаты коммунистов, в 90-е удивительно часто голосовал за правых популистов. С 70-х годов некоторые старые партии прекращали свое существование, другие объединялись между собой. Три крупные конфессиональные партии — одна католическая и две протестантские — вместе образовали Христианско-демократический призыв (ХДП); коммунисты, две пацифистски-социалистически-экологически ориентированные партии и левая христианская партия объединились в партию «Зеленые левые». Уже в 60-е была основана новая леволиберальная партия — «Демократы 66». Но последствия этой секуляризации и «деколонизации» для политической культуры в целом стали очевидными только в конце ХХ века. Неожиданно нидерландские политики по-настоящему были вынуждены заново выстраивать свою политику; возможно, теперь им даже придется впервые поучиться тому, что´ такое делать политику.
«Революция» 60;х годов проходила в Нидерландах — как в Англии, но в отличие от Германии и Италии — в более или менее игровой манере. В период между 1965 и 1967 годами тон задавало так называемое движение «Прово», рыхлая коалиция художников, студентов и рабочей молодежи, которые выступали против буржуазной унифицированной культуры района Лёйкенстраат. Движение заявляло о себе прежде всего посредством так называемых хэппенингов и других полукультурных;полуполитических уличных акций. «Прово» во многих отношениях напоминало берлинское движение «Дада», заявившее о себе около 1920 года. Активисты «Прово» часто выходили на демонстрации с белыми транспарантами без всяких надписей, что не мешало полиции грубо вырывать их из рук демонстрантов.
Интуитивно это движение задевало две болевые точки нидерландского общества. С одной стороны, его участники постоянно насмехались над боязливым (еще кризисным) менталитетом и моралью старших поколений, которые больше совсем не сочеталась с благополучием и свободой 60;х годов. Впрочем, одновременно они подшучивали и над набиравшим силу материализмом. Один из их лидеров, «борющийся с курением маг» Роберт Яспер Хроотфелд, каждую неделю — по старой нидерландской традиции с поднятым указательным пальцем — произносил проповедь на площади Спёй в Амстердаме, направленную против безумия «одержимых потребителей». «В Западной Европе у нас есть все: телевизоры, соковыжималки и мопеды. Если в Китае еще нет соковыжималок, то у них единственная цель — заполучить их как можно скорее».
Затем, как и в других частях Европы, факел бунта приняли хиппи и студенты. Но студенческое движение и здесь зашло в тупик марксистского догматизма, хиппи закрылись в собственных анклавах, и, оглядываясь на прошлое, можно прийти к выводу, что лишь женское движение имело в те годы наиболее конкретные достижения. Хотя и здесь можно задать вопрос: не в большей ли степени эмансипации нидерландской женщины способствовали фармацевтическая фирма «Органон», производившая противозачаточные пилюли, и закон о социальной помощи, принятый усилиями честной католички, министра Марги Кломпе, благодаря которому государство впервые гарантировало помощь разведенным женщинам и их детям?
Но эти годы были важной фазой, когда «колонны» одна за другой лопались, как яйца в гнезде динозавра. Наряду с этим происходила смена поколений в нидерландской элите. В определенном смысле «революция» 60-х в Нидерландах была отложенной революцией 1945 года. Впервые после войны снова стали задавать порой весьма болезненные вопросы о периоде оккупации, отчасти потому, что новое поколение требовало убедительных ответов, отчасти потому, что поколение Сопротивления, которое во время и сразу же после войны мечтало о новом, освободившемся от «колонн» нидерландском обществе, теперь наконец увидело свой шанс и стремилось им воспользоваться. События оккупации, таким образом, все же стали частью национального автопортрета и даже существенной его частью, ведь здесь же шла речь о мериле добра и зла.
Впервые за долгое время стали раздаваться призывы к восстановлению республики. Когда наследная принцесса Беатрикс в марте 1966 года выходила замуж за симпатичного немецкого дипломата Клауса фон Амсберга, частью общества это было встречено с возмущением, и не в последнюю очередь в кругах бывших участников Сопротивления. Активисты «Прово», которые использовали любую возможность, чтобы обнародовать свою точку зрения, приложили все усилия, чтобы сорвать торжества. Кадры с их дымовой шашкой возле свадебной королевской кареты обошли весь мир. Но и в общепризнанных партиях, таких, как Партия труда, проводились серьезные дискуссии, не следует ли опять отменить монархию.
Так далеко дело не зашло, хотя королевскому дому в 70-е годы пришлось пережить большие неприятности по поводу так называемого дела Локхида, запутанной коррупционной истории вокруг закупки боевых самолетов для нидерландских военно-воздушных сил, в которой оказался замешанным муж королевы Юлианы, принц Бернард, пользовавшийся ранее большой популярностью. В конце концов против принца не стали возбуждать уголовное дело, но правительство выступило с резким его осуждением и вынудило его подать в отставку с поста генерального инспектора вооруженных сил и сложить с себя многие другие официальные должности. И все же из этого скандала монархия вышла в результате даже окрепшей: многие республиканцы пошли на попятную, когда появилась возможность вместе с ее супругом лишить трона и саму королеву. Республиканский принцип не стоил для них тех проблем, которые могли бы возникнуть в связи с «королевским вопросом», как это произошло в Бельгии, оказавшейся на несколько лет парализованной после Второй мировой войны.
Популярность нидерландской монархии и мягкость ее противников объяснялись прежде всего личными качествами трех женщин, которые занимали трон в ХХ веке. Королева Вильгельмина, несмотря на некоторые упущения, за годы Второй мировой войны как глава лондонского правительства в изгнании более чем выдержала испытание. «Единственный мужчина в нидерландском кабинете», — говорил о ней Уинстон Черчилль. За годы правления ее мягкой и миролюбивой дочери Юлианы было несколько скорее хаотичных периодов: ее пацифистские идеи в разгар «холодной войны» не всегда находили понимание правящего кабинета, а ее супруг, этот «шоу-принц», уже тогда был замешан в сомнительных делах. Но тем не менее она была всеобщей любимицей, и даже активисты «Прово» питали к ней слабость.
Королева Беатрикс, взошедшая на престол в 1980 году, когда Амстердам вновь был довольно неспокоен, — на этот раз из-за планируемого размещения в Нидерландах оружия средней дальности — снова натянула поводья (характерно, что она вернула в обиход обращение «Ваше Величество», тогда как ее мать предпочитала, чтобы ее называли просто «госпожа») и завоевала уважение благодаря той особенной основательности и профессионализму, с которыми она выполняла свои обязанности главы государства. Она могла бы стать великолепным президентом, признавали даже многие антимонархисты. Ее муж Клаус, скончавшийся в 2002 году, спустя недолгое время благодаря своему уму и социальной отзывчивости стал одним из самых популярных представителей дома Оранских, и не в последнюю очередь среди тех, кто в 1966 году выражал ему свою глубокую неприязнь.
Усиление монархии объясняется также королевской позицией в вопросе государственного строительства. В отличие, например, от Швеции функции главы нидерландского государства не являются чисто формальными и репрезентативно-церемониальными. Здесь королева играет и политическую роль, хотя и косвенным путем. Она «неприкосновенна» — «обладает иммунитетом», — а всю ответственность берут на себя министры, но это «ее» правительство управляет страной, что находит выражение в ритуале ежегодной тронной речи. Формально она является также президентом Государственного совета, конституционного консультативного органа правительства. Члены этого совета назначаются короной, то есть королевой и министрами, и сюда должен быть представлен каждый проект закона, прежде чем оказаться на рас смотрении парламента. Вице-президента и фактического председателя этой высшей консультативной коллегии охотно именуют «вице-королем Нидерландов».
Политическую роль королева играет в первую очередь при формировании правительства, если после выборов возникает необходимость создания правящей коалиции, что не совсем просто из-за относительно большого числа партий, представленных во Второй палате (причем некоторые из них имеют всего лишь одно, два или три места). С разрушением системы «колонн» этот процесс становился все длительнее и сложнее. Королева обычно назначает на первой фазе так называемого информатора, который должен прозондировать возможность формирования правительства. При этом в большинстве случаев речь идет об опытном политике из числа принимаемых в расчет партий, который сам политически уже не активен, и с его назначением она может придать процессу формирования правительства совершенно определенное направление.
Так, королева Юлиана из-за кулис сознательно дала зеленый свет формированию довольно-таки левого кабинета Йоопа ден Эйла в 1973 году, пестрой компании «прогрессивных» и «прогрессивно-конфессиональных» сил, которые должны были придать политическую форму идеям нового времени: распределение доходов, знаний и власти как можно более широким кругам населения, демократизация образования, женская эмансипация, защита окружающей среды, усиление контроля государства в вопросах землепользования и добычи полезных ископаемых, меры по устранению недостатка жилья, помощь «третьему миру».
Бросается в глаза, что во всех общественных дискуссиях относительно курса этого кабинета международная позиция Нидерландов почти не играла никакой роли. Стране по-прежнему удавалось не замечать крупных проблем силовой политики; вновь в течение 25 лет это маленькое, но богатое государство пребывало в безопасности на периферии Европы, хотя в других отношениях в достаточно удобной ситуации.
Нравственная безупречность была в те годы важнейшим критерием оценки как в политике, так и в общественной жизни. В этом свете рассматривался также поток иммигрантов из Средиземноморского региона, который с 60-х годов постепенно становился непрерывным, а в 70;е уже десятки тысяч семей, в основном турецкого и марокканского происхождения, оставались в стране на постоянное проживание. Но разве несколько сотен тысяч нидерландцев индонезийского происхождения, приехавших на «родину» после объявления независимости колонии, были приняты без проблем?

Деревенский оркестр приветствует первых гастарбайтеров.
Да, были трудности с 12,5 тысячами амбонезцев ***, бывшими солдатами нидерландской колониальной армии и их родственниками, которые в 1951 году после военных акций индонезийцев против амбонезийских сепаратистов прибыли в Нидерланды и долгие годы вынуждены были жить в лагерях для беженцев. Их пребывание в стране рассматривалось как временное, к их интеграции в нидерландское общество сначала совсем не стремились. Многих из них поддерживала вера в возвращение в свою собственную, независимую от Индонезии республику, и нидерландское государство не мешало им предаваться этим иллюзиям. Когда жители южной части Молуккских островов поняли свое заблуждение, растущая горечь выплеснулась в 1975 и 1977 годах в несколько террористических актов воинствующих молодых людей — взятие заложников в двух поездах, в индонезийском генеральном консульстве в Амстердаме, в административном здании и в начальной школе, — вследствие которых Нидерланды были вынуждены выступить за создание независимой республики Южных Молуккских островов. Большинство случаев захвата заложников и операций по их освобождению сопровождались жертвами. Но даже эти отвратительные террористические акты не нарушили надолго внутреннего мира. Почему же сейчас интеграция новых иммигрантов не должна получиться, несмотря на первоначально натянутые отношения между местными жителями и вновь прибывающими в некоторых проблемных кварталах?
Что касается экономической ситуации, то нидерландские революционные игры 60-х и начала 70-х годов проходили под почти безоблачным небом. А в 1960 году Нидерландам неожиданно упало в руки богатство: под Гронингеном было найдено одно из крупнейших в мире месторождений природного газа, а позже еще большие запасы газа были найдены под нидерландским континентальным шельфом в Северном море. Используя доходы от этих месторождений, можно было финансировать гигантские работы по строительству гидротехнических сооружений Дельтаверк, щедро расширить систему социального обеспечения, и, кроме того, облегчить государству улаживание общественных конфликтов.
Так появился нидерландский вариант так называемой кувейтизации, понимаемой как серия странных скачков, которые совершает страна, если внезапно получает слишком много денег от продажи нефти или газа. Бизнес хочет избавиться от пожилых работников? Нет проблем: на них было распространено действие относительно щедрого в сравнении с другими странами страхования в случае потери работоспособности. Выплаты по этому страхованию, позволяющие сохранить достойное существование многие годы, действовали как досрочная пенсия. Когда кабинет угрожал отставкой из-за планов перекрытия русла Восточной Шельды в рамках строительства сооружений Дельтаверк, было принято решение вместо цельной крепкой дамбы, отрезающей лиман от Северного моря, что могло бы иметь далеко идущие по следствия для его флоры и фауны, соорудить чрезвычайно дорогостоящую защиту от наводнений с подвижными затворами, которая гарантирует безопасность, но экологически менее опасна. Сохранение внутреннего мира, как и прежде, оставалось высшей заповедью, но теперь уже не с помощью «колонн», а благодаря большим денежным средствам из государственного бюджета.
Не прошло и нескольких месяцев, как кабинет ден Эйла пришел к власти, а экономический климат резко поменялся. В октябре 1973 года вспыхнула война между Израилем и соседними Сирией и Египтом. Ведущие члены ОПЕК временно ввели нефтяное эмбарго для двух важнейших союзников Израиля — Соединенных Штатов и Нидерландов. Цена на нефть подскочила на 300 процентов.
Первого декабря 1973 года мрачный Йооп ден Эйл вынужден был заявить о ряде жестких мер по ограничению расходов. «Приходится сделать вывод, — сказал он, — что мир никогда больше не вернется к тому положению, которое было до нефтяного кризиса». Так неожиданно наступил конец золотого двадцатипятилетия.
На здании нидерландского социального государства, возведенном в 50;е и 60;е годы и украшенном, как короной, законом о нетрудоспособности, с 70;х годов стали обнаруживаться серьезные трещины. Ведь система была построена с учетом общественных реалий 50;х годов: стабильная семья, где мужчина был кормильцем, долгая трудовая жизнь, надежные рабочие места с полным рабочим днем, чувство ответственности каждого отдельного человека перед обществом. Через два десятилетия действительность выглядела уже совершенно иначе. Из-за множества разводов быстро росло число одиноких матерей или отцов, волшебным словом в мире труда стало «флексибильность» (то есть изменчивость выполняемых функций), а тех, кому не удавалось соответствовать духу времени, выталкивали на обочину жизни. Система социального обеспечения, за исключением закона о нетрудоспособности, была в первую очередь нацелена на то, чтобы оказывать помощь при временных неприятностях — потере работы или болезни; теперь же ее задачей должно было стать смягчение длительных социальных воздействий таких явлений, как волна разводов, автоматизация и «флексибилизация». Хотя нидерландцы в общем отличались завидным здоровьем, почти миллион граждан страны жили на пособие по профессиональной инвалидности в рамках закона о нетрудоспособности, что является необычно высоким показателем по сравнению с другими странами.
С гордыми символами экономического чуда дело тоже обстояло плохо: крупные корабельные верфи закрывались, «Фоккер» обанкротился, «Хоохофенс» и «Энкалон» растворились в туманных конгломератах фирм. Деньги за газ еще некоторое время спасали ситуацию, ориентированная на достижение согласия польдерная модель вновь оказалась востребованной, когда работодатели и профсоюзы в 1982 году заключили «Соглашение Вассенаара» относительно сдерживания заработной платы, но в привязке к сокращению рабочего времени, что привело к уменьшению безработицы. Но в сентябре 1990 года тогдашний премьер-министр Рююд Любберс, указывая на статистические данные по трудо-потерям вследствие болезней, утраты трудоспособности, безработицы и неучастия в трудовой деятельности, заявил, что Нидерланды больны. «Наша страна настолько больна, что можно говорить о новом “социальном вопросе”, и необходимо подчеркнуть: одни политики не смогут справиться с этой проблемой».
С тем же единодушием, с каким создавали социальную систему, теперь принялись ее санировать. Размеры пособий уменьшались, требования к претендентам на них становились все строже. Правда, на верхних этажах бизнеса уже не принимали участия в игре, и это не в последнюю очередь относилось также к приватизированным к тому времени социальным учреждениям, корпорациям жилищного строительства и другим составным частям общественного сектора. На управленческом уровне стало обычным делом повышать свое жалованье до таких огромных сумм, которые не могли находиться ни в каком соотношении с реальными достижениями. Внутри элиты возникла новая, вороватая каста, образ действий которой напоминал о безобразиях городских регентов XVIII века.
Социальное доверие, традиционное связующее средство нидерландского общества, при котором был возможен лозунг 50-х годов «Затянуть ремни!» и даже такие компромиссы, как «Соглашение Вассенаара», трещало по швам. Общественное мнение искало и находило необходимых козлов отпущения: «дармоедов» и «растратчиков», иностранцев и вообще сограждан, получающих пособия. Два известных телевизионных юмориста, прикинувшись представителями гаагского преступного мира, основали шутовскую Антипартию («партия для всех нидерландцев, которые больше не выносят Нидерландов») под такими лозунгами, как «Долой дебаты — все богаты!» и «Все вместе за наше собственное!». Но им пришлось спешно свернуть программу, когда они заметили, что их плоский популизм, задумывавшийся как насмешка над демагогией некоторых реально существующих партий, вдруг с пугающей быстротой стал популярен.
Мечты о Нидерландах в роли страны образцовой морали, способной указывать путь другим, вдребезги разбились в этот период о европейские реалии. Проект договора для основания в значительной мере федералистского Европейского союза, разработанный под председательством Нидерландов, 30 сентября 1991 года был отвергнут почти всеми другими государствами — членами ЕС. Проект пришлось переделать, от большинства высоких целей отказаться, чтобы 7 февраля 1992 года мог быть наконец подписан сильно ужатый Маастрихтский договор.
Международный престиж Нидерландов особенно пострадал в связи с событиями в Боснии в июле 1995 года, когда в мусульманском анклаве Сребреница было убито почти 8 тысяч боснийских граждан. Снова идеализм и самодовольство нидерландцев столкнулись с суровой действительностью за пределами их собственного маленького мира, на этот раз с кровавыми последствиями. Нидерландские военнослужащие подразделения «голубых касок» должны были обеспечить безопасность 40 тысяч жителей в зоне защиты. Но их контингент численностью 600 человек — только часть боевого подразделения — был слишком мал для такого задания (он не располагал тяжелым вооружением; кроме того, сначала отсутствовала запрошенная поддержка с воздуха, а затем, после первой атаки бомбардировщиков на сербские танки, она была быстро прекращена, чтобы не поставить в опасное положение солдат «голубых касок», взятых сербами в заложники). Когда сербы захватили город, нидерландцам оставалось только бессильно наблюдать, как мужчин и юношей постарше разлучают с женами и детьми. Позже выяснилось, что почти все вывезенные мужчины-боснийцы подверглись уничтожению в прилегающих горах.
В то время как сербы готовили бойню, неумелый командир нидерландского батальона перед сербскими камерами чокался с генералом Радко Младичем. Спустя десять дней после трагедии он назвал генерала «профессионалом, который хорошо знает свое дело». Под заголовками типа «Тост за свободу» нидерландские газеты публиковали фотографии весело танцующих «миротворцев», которых сербы пригласили на прощальную вечеринку. Только семь лет спустя закончилось официальное расследование в Нидерландах. После опубликования его результатов тогдашний кабинет Кока ушел в отставку.
Грозящий палец вдовы Пелс еще долго оставался поднятым. Когда в 1993 году в Золингене **** в результате поджога правыми экстремистами дома, заселенного турецкими иммигрантами, погибли две женщины и три девочки, радиостанция Хилферсюма организовала акцию протеста: более миллиона нидерландцев послали открытки с подписью «Я взбешен» федеральному канцлеру Колю. А в 2000 году многие высказывали осуждение королеве Беатрикс, которая провела зимний отпуск в Австрии Йорга Хайдера *****.
В 2004 году запылали мечети и в Нидерландах, а политика в отношении убежищ и иммиграции со стороны нидерландского правительства наверняка получила бы одобрение господина Хайдера.
Цитируется по изд.: Мак Г. Нидерланды. Кризис истории. М., 2013, с. 157-182
Примечания
* Национал-социалистическая рабочая партия Германии
** «Изумрудный пояс» — Индонезийский архипелаг.
*** Жители острова Амбон (Молуккские острова, Индонезия)
**** Город в Германии.
***** Хайдер Йорг (Haider Jorg) (1950–2008) — австрийский ультраправый политик (Австрийская партия Свободы), чей политический успех вызвал бойкот Австрии со стороны 14 стран ЕС в 2000 году.